Виктор Пелевин — один из знаковых российских писателей 90-х годов. Его новая книга, обычно выходящая с завидной регулярностью раз в год, всегда становится литературным событием. 29 сентября издательство «Эксмо» выпустило очередной его роман «KGBT+», выглядящий своеобразным продолжением прошлогоднего «Transhumanism Inc.» Писатель Дмитрий Быков рассказывает (без спойлеров) для RTVI, почему о новом произведении Пелевина, «обладающего даром хорошо писать всякую ерунду», в настоящее время «невозможно говорить всерьез».
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Новый роман Виктора Пелевина «KGBT+» вызвал некоторое количество кисловато-хвалебных отзывов. В этом нет ничего необычного, хотя, казалось бы, продолжение довоенного «Трансгуманизма» было обречено на неудачу. Но, во-первых, военное время далеко не всеми осознано, мобилизация коснулась не каждого, территорию России пока не бомбят, а во-вторых, многим дорога именно иллюзия, что ничего не изменилось.
Пелевин каждую осень выпускает роман, полный презрения к читателю, «ЭКСМО» его печатает, Галина Юзефович разбирает, «и жизнь вроде как неистребима», как сказано у Петрушевской. Для кого-то — для меня, например, — роман Пелевина выглядит кричащим диссонансом и как минимум бестактностью, а для кого-то — бегством от неприятной реальности и верностью себе.
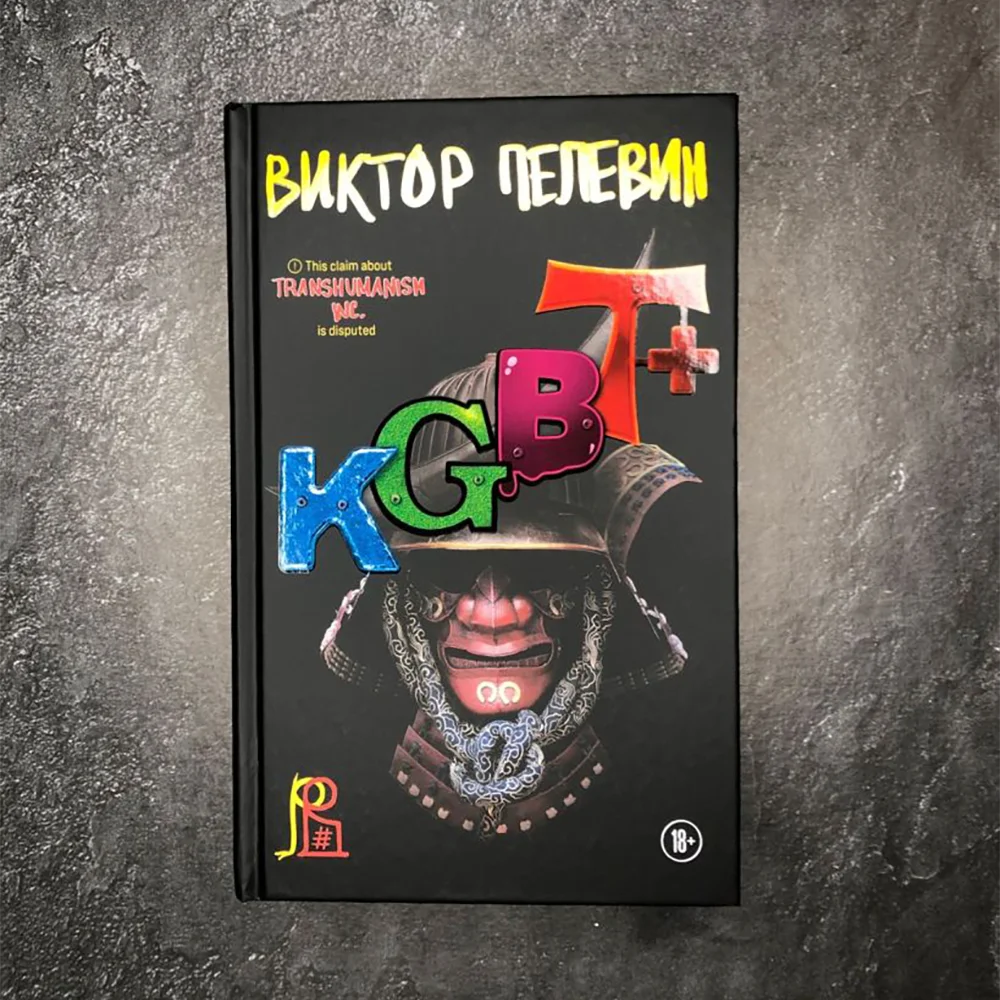
Обложка романа Виктора Пелевина «KGBT+»
«ЭКСМО»
Святой Людовик де Гонзаго на вопрос, как он отреагировал бы во время игры в мяч на известие о скором конце света, ответил: продолжал бы играть в мяч. Он мотивировал это тем, что игра удавалась ему лучше всего остального, и достойной альтернативы этому занятию в преддверии конца света все равно нет. Правда, в такой момент надо играть в мяч на уровне Пеле; но думаю, поклонников позднего Пелевина как раз больше всего утешает то, что он делает это с подчеркнутой ленцой. Это как бы легитимизирует их собственную неумелость. Отказ от высоких критериев — позиция удобная и в эпоху упадка характерная, а то, что эпоха упадка закончилась падением, покамест далеко не до всех дошло.
Бессмысленно ругать любой роман Пелевина, потому что ни на продажи, ни на авторскую самооценку это никак не влияет. Особенно бессмысленно ругать его за то, что в нем отсутствуют актуальность, надежда или моральный пафос. Писатель никому ничего не должен.
Пелевин наделен даром хорошо, то есть динамично и гладко, писать любую ерунду. Правда, в последних его романах, условно говоря, все больше пустоты и все меньше Чапаева, шутки вызывают чувство тягостной неловкости, картины будущего нарисованы без всякой изобретательности, а временами прямо отдают сорокинской китайщиной; персонажи неотличимы, с психологизмом и прочими устаревшими добродетелями дело обстоит чуть хуже, чем никак. Но в конце концов, автор никого не заставляет печатать, читать эту книгу и тем более критиковать ее.
Да, «вбойка» — жанр поэзии будущего — подозрительно напоминает «дрожку» Стругацких, но ведь всё похоже на всё. Да, каламбуры насчет Салавата, сала и ваты уже и восемь лет назад выглядели бы непростительным анахронизмом.
Образчик нынешнего пелевинского стиля — это примерно вот: «Цисгендерную вагинально-фаллическую пенетрацию «Открытый Мозг» откровенно не любит. Официально говорят о контроле над рождаемостью. А на «Ватинфороме» утверждают, что это связано с устройством рептильной клоаки и принятой у рептилоидов эстетикой размножения, которую цисгендерная пенетрация невыразимо оскорбляет». Тут можно бы, конечно, процитировать Достоевского — тот знаменитый пассаж из «Записок о русской литературе», где говорится про Фета и Лиссабонское землетрясение; но тоже ведь сомнительный авторитет.
Поздний Пелевин — начиная, пожалуй, со «Смотрителя» — как-то очень уж непраздничен, то есть в нем совсем нет того, чем обычно радует литература: уколов точности, смешных острот, эмоциональных пиков. Но читателей, наделенных эмпатией и способных оценить fair play, тоже ведь не прибавляется, так что курица довольна.

Архивное фото
Виктор Пелевин
Наиболее цитируемым в критических отзывах и сетевых обсуждениях стал абзац про гражданскую позицию: «Милые мои, да какая же неясность? Гражданская позиция у меня такая же точно, как у вас. Рептильная поза. На мне и штамп стоит, даже несколько. На миссионерскую больше не пробивает (…). А если вы упрекаете меня в том, что я не спешу сжечь свое сердце для освещения вашей уборной, так зря. Я давно его сжег именно в этих целях, просто вы не заметили».
Это трезвая самооценка, но плохая литература — прежде всего потому, что в наших квартирах есть не только уборные, «просто вы не заметили».
Буддизм, православие и любое другое мировоззрение тут категорически ни при чем, но никто не отменял энергию заблуждения. Взгляды позднего Толстого на отношения полов могут быть сколь угодно абсурдны, но «Крейцерова соната» — сильный текст. Если весь мир — пирамида черепов, любая политика — игры п…сов и клоунов, история — упражнения рекламщиков, а творчество — комбинация штампов, ради Бога, такой взгляд на вещи имеет право быть. Печально, что именно такой взгляд с наибольшей вероятностью порождает унылые упражнения в софистике, читать которые так же скучно и стыдно, как наблюдать за поздним творчеством Н. С. Михалкова.
Иное дело, что Виктор Пелевин сам отлично сформулировал: в России первоначальное накопление является также и окончательным. (На фоне этого вовсе уж вяло смотрятся его свежие шутки про то, что смена караула сопровождается разворовыванием колосков).
Пелевин был лучшим прозаиком девяностых, одним из лучших прозаиков нулевых, неплохим прозаиком в десятые, сохраняет шансы удивить в двадцатые — но он оставался прежним (если угодно, оставался собой), а время от него уходило, и никаких новых навыков он не демонстрировал. Война породила тонны плохих гражданских стихов, и никто не собирается упрекать Пелевина в том, что он им не вторит: ценность этих стихов — главным образом в аутотерапевтическом эффекте.
Но война породила также новую систему отсчета и продемонстрировала полный крах российского хипстерства, полагавшего себя свободным и независимым; война продемонстрировала потрясающие примеры героизма и мерзости, зверства и милосердия, вообще сформировала новый контекст, и в этом контексте, воля ваша, всерьез говорить о Пелевине невозможно.
Я вовсе не обесцениваю того, что было сделано перед войной: похвастаюсь тем, что мне повезло посмотреть сериал Валерия Тодоровского «Надвое», снятый в 2021 году, и события 2022 года не только не обнулили его, но стали грозным и логичным эпилогом к нему; это же касается последних фильмов Резо Гигинеишвили или Кирилла Соколова, спектаклей Миндугаса Карбаускаса или Александра Молочникова.
Смешно говорить, что ценность текста определяется его актуальностью, — но актуальность не сводится к упоминанию текущих реалий. Гражданственность вовсе не входит в набор непременных литераторских добродетелей, можно даже грубо иронизировать над нею — если получается смешно (смешно, впрочем, получается редко, сам Достоевский не стал заканчивать «Крокодила»). Гуманизм и дегуманизация приводят в литературе к одинаково убедительным результатам, это вам не политика и не церковь.
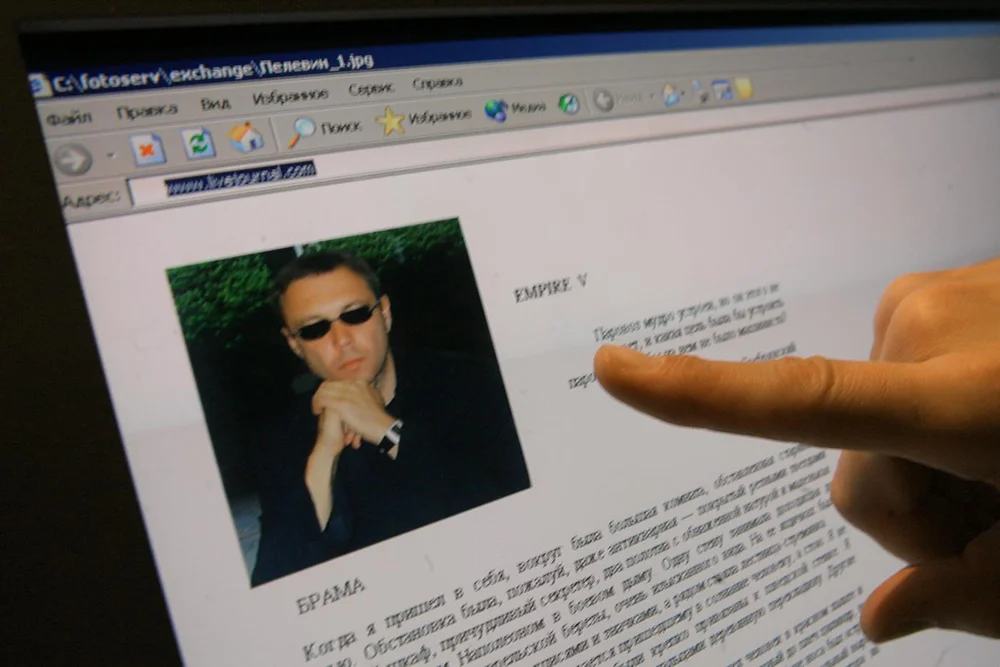
Илья Питалев / Коммерсантъ
Писатель вовсе не обязан нервно вибрировать, «когда потрясена стихия», но делать художественные открытия он, увы, обязан, иначе проследить в его самоповторах какие-либо стимулы, кроме материальных, будет затруднительно. Литература, не обладающая эмоциональностью, динамикой или изобразительной мощью, способна обрадовать исключительно тех, для кого реальность — лишь тягостное напоминание о нашем общем несовершенстве.
Разумеется, Пелевин «Snuff’а» или «Айфона» никак не заставит меня разлюбить «Числа» или пару глав из «Священной книги оборотня», не говоря уж о «Жизни насекомых», но оправдывать суконность литературы отсутствием достойного потребителя или общим ухудшением российской действительности я тоже не собираюсь. Внимательный и благодарный читатель Пелевина уважает его достаточно, чтобы не выбирать выражения, когда речь идет о наглядном и почти намеренном художественном провале. Скука и брезгливость, с которыми автор глядит окрест себя, передаются читателю автоматически.
Короче,
Не то беда, Виктóр Пелевин,
Что ты не Сталин и не Ленин,
Не Трубецкой и не Каплан,
Что ты не правен и не левен…
Далее по тексту.
