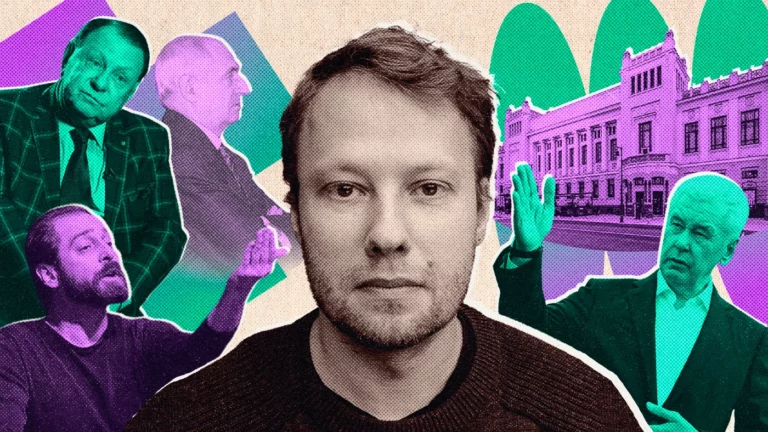В «Ленкоме» появился художественный руководитель — впервые со дня кончины Марка Захарова, превратившего Театр им. Ленинского комсомола в легенду. Театральный журналист Алексей Крижевский рассказывает RTVI о том, насколько серьезно в плане московской культурной политики стоит воспринимать назначение Владимира Панкова на место Захарова.
В столичной театральной жизни произошли серьезные сдвиги. В «Ленком» назначили нового худрука — Владимира Панкова из Центра драматургии и режиссуры, а его директором стал Дмитрий Берестов из Театра на Юго-Западе. Марка Варшавера, руководившего «Ленкомом» до этого, переместили на почетное, но не предполагающего никаких серьезных полномочий место президента.
Директор с расширенным полномочиями
С 1986 года Ленком называли «театром двух Марков». Марк Захаров делал с композитором Алексеем Рыбниковым эпохальную «Юнону и Авось», с актером Евгением Леоновым — хитовейшую «Поминальную молитву» и с драматургом Григорием Гориным — половину своего репертуара. Остальными делами театра занимался другой Марк — Варшавер. После ухода из жизни Захарова, «второй Марк» фактически и юридически возглавил театр. В его трудовой книжке было написано «директор с расширенными полномочиями» — так вполне всерьез называл себя он сам, и так иронично его называла театральная пресса.

Дмитрий Белицкий / Агентство «Москва»
Расширенные полномочия позволяли Варшаверу заниматься и репертуаром, и труппой. И если репертуар — дело вкуса (хотя по штатному расписанию вкус должен быть у худрука, а не у директора), то с труппой в последнее время особенно не ладилось. Последней каплей стал совсем недавний скандал с Дмитрием Певцовым, портрет которого был убран из фойе театра, что вызвало раздраженную реакцию народного артиста и депутата Госдумы. В ответ Варшавер напомнил, что в последние несколько лет трудовая книжка актера лежит в отделе кадров на Охотном ряду.
Ходили слухи, что Певцов сам метил на место худрука, однако, кажется, полномочия директора были настолько «расширенными», что согласится на это он никак не мог. Не складывались отношения Варшавера и с Александрой Захаровой — дочерью Марка Анатольевича и актрисой его фильмов и спектаклей. В какой-то момент у нее не осталось ролей в театре, где она прослужила всю жизнь. 16 января она сообщила, что ее сняли с последней роли в «Вишневом саде».
Не будет преувеличением предположить, что в какой-то момент культурное начальство из правительства Москвы утомилось слушать вопли, раздающиеся с Малой Дмитровки 8, и повело себя как лесник из анекдота про «красных» и «белых», который разогнал всех.
Важно будет упомянуть, впрочем, что Варшавер пытался оживить «Ленком» новой кровью. В 2022-м году у театра появился главный режиссер — им стал молодой постановщик мюзиклов Алексей Франдетти. Он поставил на отданной ему сцене хип-хоп-оперу «Маяковский» и работал над спектаклем «Маршрут построен» с командой ленкомовских актеров «Заячий стон» (правда, сейчас постановщиком значится Дарья Борисова, а Франдетти назван «художественным руководителем постановки»).
Чтобы избежать путаницы, стоит прояснить терминологию. Главный режиссер в любом театре имеет преимущественное право на постановки и зачастую имеет совещательный (но не решающий) голос при подборе репертуара. Худрук, напротив, определяет художественную стратегию театра и, как правило, приглашает на постановки других режиссеров, в меньшей степени занимая труппу своими спектаклями. Именно он зачастую является первым лицом в театре (как, например, Евгений Писарев в Театре им. Пушкина).
Франдетти был как раз главным режиссером — правда, не досидев в этом кресле до завершения контракта, уже в 2024 году подал заявление об уходе. Панков же станет художественным руководителем, правда, с Дмитрием Берестовым у них будет дуумвират. Триумвирата, видимо, не получится. Властный Варшавер открыто заявляет Панкову: «сидеть на двух стульях сложно». В прессе же он жалуется, что приглашал Панкова на постановки, а тот отказывался под предлогом занятости. «А теперь что?» — риторически спрашивает свеженазначенный президент театра.
Худрук со своим жанром
Владимир Панков вошел на сцену «Ленкома» колесом — буквально, сделав эту акробатическую фигуру на встрече с коллективом. Вероятно, этот трюк должен был подтвердить то, что он озвучил несколькими минутами позже — предложение ленкомовцам вернуться к своим корням, а именно к музыкальному театру. То есть к тому жанру, с которым еще в Перестройку «Ленком» пробил и закрепил себе исключительное место. Это прежде всего музыкальные спектакли Марка Захарова, самым известным из которых стали «Юнона и Авось» и «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты».
Для нового худрука музыкальный театр — родная среда, правда, немного другого рода. Созданная Панковым в 2003-м студия SounDrama дала название придуманному им жанру. Он подразумевает театр, в котором звук и музыка не только являются признаком жанра (оперетты, мюзикла, музыкального спектакля), но являются инструментом драматического действия.

Сергей Фадеичев / ТАСС
В этом синтетическом жанре он выдержал и свой дебют «Красной ниткой». Это документальный спектакль, сделанный по результатам фольклорной экспедиции. Он содержит в себе, помимо прекрасного фолкового музыкального материала, небанальное высказывание о природе русской души. Его премьера прошла в 2003-м году в Центре драматургии и режиссуры, который Панков возглавит спустя 13 лет.
Центр драматургии и режиссуры, созданный Николаем Рощиным и Алексеем Казанцевым (он в те годы по факту им и руководил), в 1999-м году стал колыбелью театральной революции, продолжавшейся до последнего времени и давшей российскому театру несколько поколений новых артистов и режиссеров. Панков и ЦДР взаимно обогащали друг друга.
Владимир выходил на сцену в роли Захара в популярнейшем хите «ОбломOFF» Михаила Угарова, играл, пел и ставил танцы в «Скользящей Люче» начинавшего тогда свой путь в режиссуру Владимира Скворцова. Казанцев, в свою очередь, способствовал процветанию студии SounDrama. Ее музыканты выступали в качестве небольшого оркестрика на спектаклях, а актеры ЦДР с удовольствием участвовали в новых экспериментах Панкова.
Студия все больше оформлялась как самостоятельная театральная единица, однако чем более четкими и отточенными были спектакли Панкова, тем яснее становилось, что ей нужно свое помещение. В 2014-м году они получили статус резидентов в «Гоголь-центре», однако затем театр угодил в долги и с сожалением отказался от друзей и гостей. Переданный в управление Панкову ЦДР стал, наконец, пристанищем для SounDrama. Многие спектакли Центра драматургии и режиссуры выдержаны в этом, придуманном Панковым жанре.
По совместительству
Придя в «Ленком», Панков продолжит руководить ЦДР. Это немаловажная и знаковая перемена. Парад совместителей мы видели в прошлом году. Сначала Владимиру Машкову предложили совмещать руководство Театром Табакова с «Современником». Потом Константина Богомолова отправили вдобавок к Театру на Малой Бронной руководить Театром Виктюка, а Евгения Герасимова — совмещать руководство невнятным Театром Луны с популярным Театром Сатиры. На обоих эту работу повесили как ярмо высокого доверия — Герасимов долго работал в различных структурах Мосгордумы, Константин Богомолов, выступавший в 2013 году на митингах кандидата в мэры Москвы Навального, затем стал доверенным лицом Сергея Собянина.
Об успехах Герасимова в театре, которым ранее руководил Александр Ширвиндт, не слышно (так же, как не очень было слышно о каких-то прорывных постановках в театре Луны). Константин Богомолов со свойственным ему умом и талантом занялся стиранием памяти о ярком, но неудобном режиссере украинского происхождения, переименовав Театр Виктюка в Сцену «Мельников».
Но если Богомолов, Машков и Герасимов для Департамента культуры — уже нечто среднее между чиновниками и художниками, то Панков — совсем другое дело. Пока в Центре им. Мейерхольда прощались с антивоенно настроенными директором Еленой Ковальской и худруком Дмитрием Волкостреловым, в Союзе театральных деятелей реформировали до неузнаваемости «Золотую Маску», а Женю Беркович и Светлану Петрийчук сажали в тюрьму за пьесу «Финист Ясный Сокол», Панков спокойно и сосредоточенно занимался своим делом.
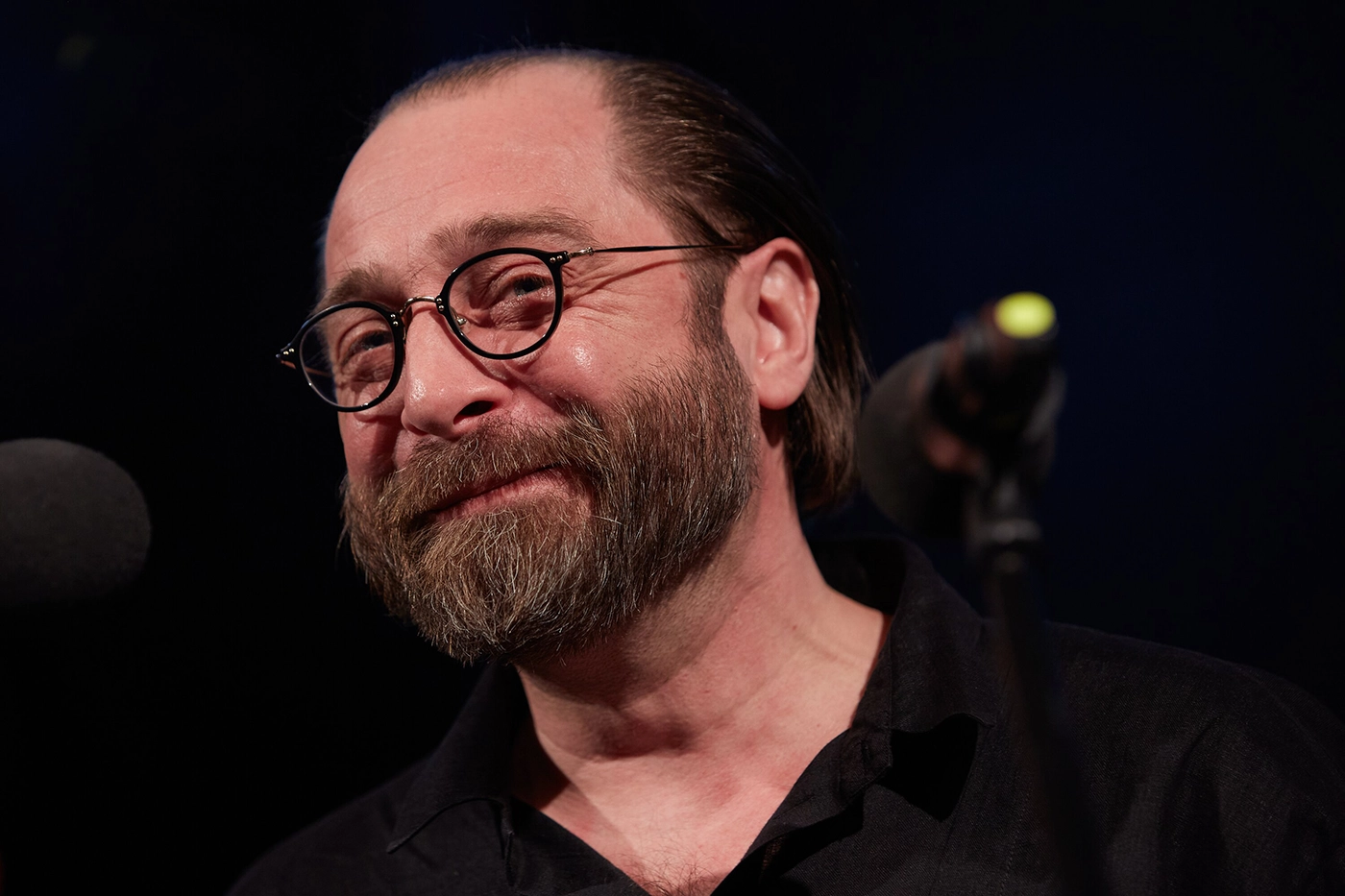
Дмитрий Белицкий / Агентство «Москва»
Руководимый им Центр драматургии и режиссуры, ставший еще при Казанцеве (то есть в середине 2000-х) из частного городским, до сих пор воспринимается московской культурной властью как «фриндж». То есть театр независимый и студийный, существующий на краю театрального процесса. Такой театр власть могла преследовать за оппозиционность (как это вышло с трижды выселенным Театром.doc) или просто за независимость, как упомянутый Центр им. Мейерхольда или «Гоголь-центр». Или, наоборот, относиться позитивно за отсутствие фронды — как к театру «Практика», еврейскому «Шалому» или к тому же ЦДР.
Однако в высшую лигу «независимых» до сих пор не брали — из соображений консерватизма ли, или просто из-за вражды поколений.
Случай Панкова — первый, когда власть признает: кадровый резерв лояльных театральных совместителей, особенно после отъезда нелояльных, подошел к концу окончательно. Теперь она готова предлагать руководить известными театрами серьезным художникам.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции